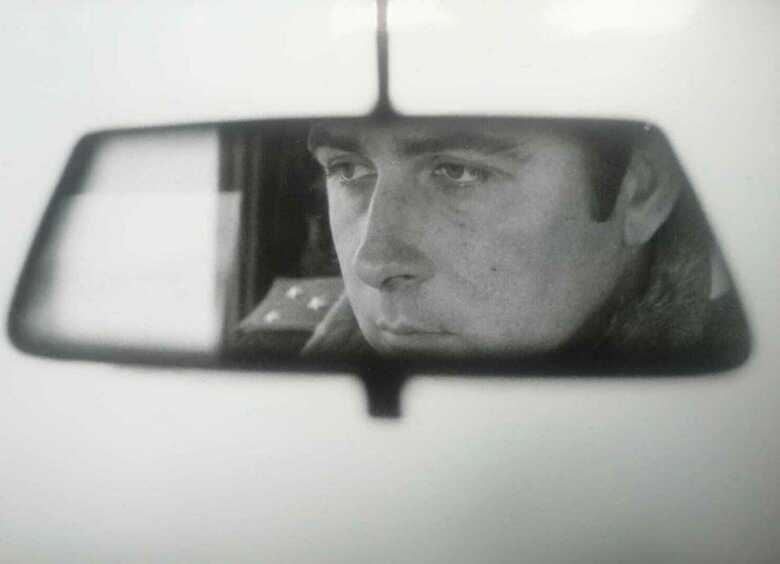Разные времена, разные задачи, сама вертикаль власти кардинально изменилась», — так началась наша беседа с Александром Налетовым, заместителем председателя правительства и министром финансов РБ в 1998-2007 годах, кандидатом экономических наук.
— На рубеже ХХ и ХХI веков основной задачей было выживание?
— Было много острых проблем при ограниченных возможностях бюджета. Главная сложность заключалась в том, что в советскую эпоху не успели завершить создание промышленного комплекса республики в том виде, каким он планировался. Об этом много говорил и писал Леонид Потапов, добиваясь включения Бурятии в программу социально-экономического развития Забайкалья и Дальнего Востока. Если бы были построены и введены в действие моторный завод У-УАЗа и завод автоматических систем в составе У-УППО, мы имели бы качественно иную экономику и налогооблагаемую базу, кадровый потенциал. А это — основа технического прогресса и социального развития.
Но исключительно к задаче выживания работа первого президента и правительства Бурятии никогда не сводилась. Леонид Васильевич использовал свое знание экономики, хозяйственных связей, сложившихся в СССР, чтобы сохранить предприятия, которое можно было сохранить, и развивать перспективные направления.
Был создан фонд социально-экономического развития РБ, через который оказывалась поддержка модернизации действующих и созданию новых производств. Что-то получалось, а чему-то мешали постоянно меняющиеся внешние условия, иногда и пресловутый человеческий фактор.
Например, было закуплено швейцарское оборудование для Улан-Удэнской макаронной фабрики, выпускавшей продукцию под брендом «Макбур». К сожалению, предприятие не успело преодолеть последствия закредитованности, резкого роста мировых цен на пшеницу твердых сортов и усиление конкуренции на российском рынке макаронных изделий. Эти негативные факторы вдобавок усугубились беспочвенным уголовным преследованием руководства фабрики.
Леонид Потапов видел перспективы развития туризма, а значит, судоходства на Байкале. Поэтому стремился сохранить судостроительный завод, переориентировав часть его мощностей на выпуск агрегатов для сельского хозяйства. Но сулящий надежду профильный заказ на строительство дорогой круизной яхты обернулся банкротством: заказчик не рассчитался с производителем.
Тем не менее были привлечены инвесторы и построена обогатительная фабрика «Бурятзолота» в Самарте. Вышел на международный рынок У-УАЗ, в результате переговоров с участием Леонида Потапова заключивший прямой контракт на поставку вертолетов в Малайзию. Получали поддержку предприятия лесоперерабатывающей, пищевой промышленности, ТЭК.
— Вас называли министром финансов, который из одного бюджетного рубля делает полтора.
— Никогда не занимался подобными подсчетами (смеется). Просто старались рационально управлять финансами. Для каждого района были разработаны планы по собираемости налогов. Использовали возможности, которые давала регионам федеральная власть.
Леонид Потапов поддержал наше предложение о создании Республиканского казначейства министерства финансов РБ для обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств. А их размещение на счетах в уполномоченном банке — «БайкалБанке» — приносило казне дополнительный доход. Порядка 60-80 млн рублей ежегодно в ценах начала «нулевых» годов.
Договаривались с крупными предприятиями о поддержке ранее подведомственных им социальных объектов: детских садов, лагерей летнего отдыха и спорта, турбаз. Леонид Васильевич приглашал руководителей и просил, убеждал, подчеркивая, что все это нужно их же трудовым коллективам. Первому президенту Бурятии не отказывали, откликались.
Искали другие совпадения интересов. Помню, надо было построить несколько переходов через железную дорогу. Деньги у железнодорожников были, но согласование сметы требовало значительного времени. Мы предложили: финансируем строительство из республиканского бюджета, а управление дороги увеличивает долю работающих в Бурятии подразделений в общей сумме налога на прибыль. Задача была выполнена.
— Вы стали министром финансов накануне дефолта 1998 года. Это было серьезное испытание, потрясение?
— Потрясение, пожалуй, сильно сказано. Правительство Бурятии во главе с Леонидом Потаповым принимало взвешенные решения. Каждый — в своей сфере. В республике были запасы продовольствия на оптовых складах местных компаний. Их не трогали, и полки магазинов не опустели. Был уполномоченный банк, который по поручению Леонида Васильевича взял на себя обязательства перед вкладчиками сметенных финансовым «штормом» кредитных организаций.
Именно с 1998 года началась стабилизация экономики Бурятии. А в последующие годы — постепенный рост реальных располагаемых доходов населения. Это был результат замещения тех импортных товаров, которые при изменившемся курсе рубля к доллару стало выгоднее производить в республике. Предприниматели занялись выпуском полуфабрикатов, выпечки и пряников, мебели, стройматериалов. Первый президент старался посещать новые производства, невзирая на напряженный график, поддерживать морально и в меру возможностей финансово.
— Много раз доводилось слышать версию о том, что губернатор Иркутской области Юрий Ножиков предлагал Леониду Потапову объединить энергосистемы двух регионов и не отдавать объекты электрогенерации в РАО «ЕЭС России», сохранить низкие тарифы для промышленности и населения. Вам об этом что-то известно?
— В той версии, о которой вы говорите, налицо хронологические нестыковки. Указ Бориса Ельцина «Об организации управления электроэнергетическим комплексом РФ в условиях приватизации» был издан в августе 1992 года. Согласно этому документу, Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС передавались в РАО «ЕЭС России».
Иркутские власти (губернатор и депутаты областного совета) выступили против, обратились в Конституционный суд России, который в сентябре 1993 года признал указ нарушающим Конституцию и федеративный договор.
На момент всех этих событий Леонид Потапов еще не был избран президентом Бурятии. Он занимал пост председателя Верховного Совета. Правительство возглавлял Владимир Саганов. Высшего должностного лица в республике не было.
Надо учитывать и экономическую составляющую. В Иркутской области — три мощных ГЭС, связанных с алюминиевыми заводами и лесоперерабатывающим комплексом. Эти предприятия — основные потребители дешевой электроэнергии.
А какие объекты электрогенерации были в Бурятии в 1992 году? Гусиноозерская ГРЭС и две улан-удэнских ТЭЦ, одна из которых не достроена. Их суммарная мощность в разы меньше Ангарского гидрокаскада, не говоря уже о разнице в себестоимости электроэнергии, вырабатываемой на угле и на воде.
Поэтому о равноправном объединении не могло быть и речи. Да и вообще иркутянам, как мне представляется, это было невыгодно и не нужно. А все возникшие впоследствии версии — попытки домыслить историю.
- Чем сегодня занимается экс-вице-премьер и министр финансов Александр Налетов?
- Работаю директором Улан-Удэнского авиационного техникума. Рад тому, что вношу свой вклад в подготовку кадров для одной из передовых и перспективных отраслей промышленности нашей Бурятии.
Благодаря поддержке Министерства образования и науки РБ, Улан-Удэнского авиазавода и лично Леонида Яковлевича Белых мы начали обучение операторов БПЛА еще в 2016 году, задолго до СВО. Наши выпускники этой квалификации высоко востребованы.
Учащиеся техникума в нашем учебно-производственном комбинате выпускают разнообразную продукцию для воинских подразделений, принимающих участие в специальной военной операции. Разрабатывают программное обеспечение для управления роем дронов, собирают БПЛА, производят антидроновые ружья. При содействии Федерации стрельбы из лука реализован пилотный высокотехнологичный проект по изготовлению рукояти лука «Аэрон». В этом году провели первый турнир по управлению БПЛА.
Весной в составе делегации руководителей техникумов и колледжей Бурятии во главе с министром образования и науки РБ Валерием Поздняковым побывал в ДНР.
- Спасибо за беседу.